Ольга Мальцева. Любимов сегодня
Сегодня многим кажется аксиомой, что Таганка — театр политический. В одной из рецензий так и было заявлено: «…политическое искусство театра Любимова — а оно именно политическое, что доказывать, думаю, нет нужды…»
Этому и многим другим мифам «возражают» сами любимовские спектакли как художественные произведения с их внутренними закономерностями. В частности, одна из них предполагает непосредственное участие зрителя в становлении спектакля. В противном случае перед зрителем может предстать совокупность отдельных мало связанных между собой частей, локальных образов. Зачастую целому и «приписывается» содержание одного или нескольких статичных точечных образов, а точнее, их отдельных сторон. Но в любимовском спектакле нет статичных образов. По ходу действия происходит непрерывное становление каждого из них: зритель ассоциативно выстраивает образ как часть целого, насыщенного повторами, рифмами и организованного поэтическим ритмом. Зритель же, ассоциативно сопоставляя множество подобных относительно автономных образов, создает (воссоздает) полифоничное, также непрерывно становящееся целое, которое постоянно рождает источники полей художественных смыслов.
Процесс этот требует не только прямого, но и индивидуального участия зрителя. Таганка — театр не площадной, вопреки распространенному мнению. Не адресованный массе, он никогда и не обращался от имени массы с неким общим пафосом таганковского «мы», вопреки еще одному устойчивому заблуждению. Театр этот всегда в высшей степени ценил и ценит индивидуальность. Недаром главным героем его спектаклей является актер как художник, ведь художник — одна из обязательных многочисленных ролей, которые играет в каждом спектакле таганковский актер. Отношение режиссера к массе, не разделенной на личности, всегда было сложным, хотя она неоднократно, начиная с первого спектакля, оказывалась в поле внимания театра. Хоровой герой мог скандировать «Дубинушку», декларируя коллективную волю к действию, но мог, словно заведенный, кружиться в кадрили, лузгая семечки, как в спектакле «Мать». Мог энергично, устрашающе синхронно действовать с топорами в руках, как в «Пугачеве». Завораживать красотой своего пения и, без раздумий поддерживая и тут же предавая любого назвавшегося правителем, с готовностью пускаться в хулиганский разгул и зверство, как в спектакле «Борис Годунов». Или, с не меньшей готовностью, соглашаться с чем бы то ни было и тут же ввергаться в агрессивный танец, обрушивая всю тяжесть кованых подошв на вождя, только что вознесенного им, как в спектакле «Марат-Сад». Способность массы «заводиться», оказываясь толпой марионеток, стала существенной частью мотива механистичности, превращения человека в куклу — одного из постоянных мотивов любимовских постановок. С хоровым героем связаны, может быть, самые страшные образы, созданные театром.
Сегодня — говорят Любимову — однозначная определенность, жесткость оценок, категоричность, присущие его спектаклям, черно-белая эстетика Таганки, так годившиеся для отражения двухцветного мира, в котором мы когда-то жили, — анахронизмы. И этот миф также рассыпается при обращении к постановкам режиссера как художественным произведениям, созданным по их внутренним законам. Мир таганковских спектаклей принципиально многоцветен и многоголосен, независимо от того, какое время на дворе, что обеспечивается самой природой этого мира: относительно автономным равноправным положением образов, созданных актерами, музыкой и сценографией, каждый из которых ведет собственную «партию», «голос» в полифонии спектакля. Кроме того, режиссер применяет как полноправные в структуре целого отдельно пластику и речь актеров. Количество «голосов» и точек зрения, представленных в спектакле, он увеличивает и многими другими способами. Так было даже в ранней Таганке, когда театр высказывался более жестко. Вспомним, уже в первой постановке Любимов неожиданно размыл мир Брехта лирической стихией Цветаевой и Слуцкого. Сценическое высказывание уступило в ясности брехтовскому и в «Галилее», где были сыграны не только оба финала пьесы, в том числе тот, от которого драматург отказался, но добавлен и третий, сочиненный театром. В нескольких переводах звучали отдельные эпизоды «Гамлета». В «Братьях Карамазовых» режиссер снова предоставил слово Брехту (в хоровых высказываниях, положенных на музыку из оперы Брехта-Вайля), чья категоричность контрастировала с суждением, звучавшим в духовных песнопениях. Примеры, как и всюду, можно множить. Даже если лирическим героем режиссера и его театра становились Маяковский, Пушкин, Гоголь, Моцарт, Булгаков или булгаковский Мастер, в спектакле звучали другие точки зрения благодаря, повторим, полифоническому строю спектакля. Расстановка акцентов и в этом случае была предложена зрителю.


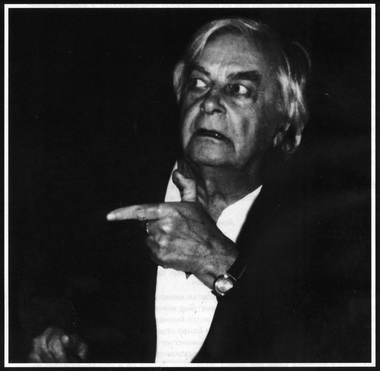
Ю. П. Любимов на репетициях.
Фото А. Бутковского и А. Стернина
Мир, представленный в любимовском спектакле, — всегда мир-оборотень, мир-перевертыш. Это качество придает ему эффект мерцания, создающийся при постоянных переходах актер — персонаж — актер… и порождаемый открытой сценической игрой, а также частый в произведениях режиссера мотив двойника. Последний прозвучал еще в «Добром человеке из Сезуана». А в спектакле «Подросток» — оказался связан со всеми персонажами (а не только с Версиловым, в отличие от романа). Здесь, как и во многих других постановках, почти каждый актер играл несколько ролей, оставаясь заведомо узнаваемым. Множество представало в одном лице. Или один, актер — во многих лицах. В подобную «игру» обычно включаются и другие участники спектакля. Например, вещи, которые «играют роли» других вещей, одновременно оставаясь самими собой, «не гримируясь». Классический пример тому — сценография спектакля «А зори здесь тихие…». В спектаклях «Послушайте!» и «Товарищ, верь…» несколько актеров в течение вечера играли одну роль. И снова возникал эффект: одно и то же — не одно и то же. А разные явления вдруг оказывались поразительно схожими, порой тождественными.
В таком постоянно ускользающем, заведомо противостоящем ему мире и действует человек в таганковском спектакле. Действует в разных своих ипостасях. Укажем хотя бы на три из них: человек экзистенциальный, человек социальный и человек играющий. Сегодня — объясняют Любимову — актуальна классика со своими стихами, а не хроника времен большевистских деспотов, на материале которых поставлен новый спектакль режиссера, якобы держащий зрителя «в резервуаре прошлого». Но именно классика составляла и составляет в основном репертуар Таганки. А законы поэзии стали внутренними конструктивными и, значит, смыслообразующими законами любимовского театра. Да, человек на Таганке непременно представлен в отношении с обществом, с властью. Любимов никогда не был аполитичным, не стал таковым и сегодня. Но художественный текст его спектакля, подобно поэтическому произведению представляя мир в целом, любой разговор неизменно возводит к основным, предельным проблемам человеческого бытия. Подобно тому, как «Поэт издалека заводит речь,/Поэта далеко заводит речь», Любимов, и размышляя о сиюминутном, неизменно восходит к темам вечным. И современную социальную действительность он представляет в историческом контексте, отмечая, что к части проблем страна словно приговорена, будто идет по историческому кругу, а многие из них актуальны на протяжении истории для всего человечества. В этом смысле не составляет исключения и спектакль «Шарашка», где большевистская деспотия — частный случай модели мира, в котором правит зло.
Непременным героем таганковского спектакля является и человек с его одиноким предстоянием судьбе и выбором. Этот мотив возникает многократно, в том числе в образах, создаваемых рифмующимися мизансценами с выхваченным на секунды из тьмы актером-персонажем, когда персонаж (и актер) наедине с судьбой должен в мгновение высказаться-прожить. Он возникает и в образах человека «на краю», развивающихся в сквозных мизансценах на покатом помосте, устремленном к плахе, — в «Пугачеве», на покатой же земной тверди у вечного покосившегося забора — в спектакле «Живаго (Доктор)», на краю могилы или перед лицом рока-занавеса — в «Гамлете», на обрыве-краю — в «Обмене» или «Доме на набережной», перед лицом разверзшейся бездны — в «Пире во время чумы», на тюремном круге над пропастью — в «Шарашке». Мотив трагического противостояния человеческой жизни вечности и бесконечному возникает при сопоставлении индивидуальной судьбы героя и космизма хоров в «Живаго» и «Медее» или в повторяющихся кратковременных явлениях персонажей из черной бездны, которая тут же их поглощает, — в «Доме на набережной»…
Но пространство любимовского спектакля — прежде всего, конечно, пространство игры. Игры, являющейся здесь не только знаком условности театра или способом создания актерами персонажей. С открытой театральной игрой связаны, вероятно, главные мотивы постановок Любимова: игры, человека играющего, творчества. Творчества, которым как высшим критерием режиссер постоянно поверяет человека, например предлагая в процессе действия сопоставлять персонажа и создающего его актера — художника, мастера.
Артистизм и игровой азарт актеров Таганки, демонстрация ими мастерства и универсализма, постоянно испытываемых в решении сложных сценических задач, которые ставит перед актерами режиссер, виртуозная выстроенность и почти вызывающая красота мизансцен и спектаклей в целом, художническая щедрость режиссера. Во всем этом, предъявляемом зрителю в качестве отдельного объекта внимания, — саморефлексия художественной реальности, осознающей себя именно реальностью театральной игры, торжество последней и игры как таковой. Одновременно сценический мир осознает грубость, ограниченность и несовершенство своих средств, то и дело насмешничая над ними. Вдохновенно паря в игровых высотах, он постоянно иронизирует над собой как «всего лишь игрой». Комизм иронии то и дело проступает трагизмом, и наоборот… Сложная изысканная виртуозная форма спектакля Любимова обнаруживает невероятную плотность художественных смыслов… О некоторых из них говорилось в этой статье.
Популярность Таганки в «годы застоя» во многом была сродни популярности поэтических вечеров, проходивших на громадных стадионах и в зале Политехнического музея в период «оттепели», где собирались не только ценители поэзии и куда шли все жаждущие услышать свободное слово. Кружки ценителей да и просто любителей поэзии, как известно, во все времена были именно камерными кружками. Сейчас, когда все вернулось на круги своя, выступления даже самых именитых поэтов снова собирают весьма скромные аудитории, соотносимые с кругом читателей поэзии.
Конечно, публицистика и общественно-политические ассоциации играли важную роль и в восприятии происходящего на сцене Таганки. В недавней статье можно было прочесть и более сильное утверждение, а именно: смысл спектаклей этого театра высекался лишь благодаря внесценическим ассоциациям. Мало того, по мнению автора статьи, внутри себя знаковая система любимовского спектакля вообще не имела смысла. Иными словами, Таганке было отказано в принадлежности к искусству. Ведь то, что знаковая система режиссера не имеет внутри себя смысла, означает только одно: не важно как, на каком художественном языке говорит режиссер, то есть способ высказывания не участвует в творении смыслов. Впрочем, и о художественном языке в таком случае говорить не приходится. Эта, может быть, впервые столь отчетливо сформулированная точка зрения весьма популярна. И значит, надо констатировать, что художественный текст спектаклей как таковой нередко оказывался за пределами внимания зрителей.
Возможно, интерес к злободневной социальной проблематике, который потеснил многое другое, послужил причиной подобного восприятия театра в былые годы и, по-видимому, существенно определил невероятный успех театра в «годы застоя». Успех, рядом с которым выглядит смешным все, что называют успешным в сегодняшнем театре, как заметил один из режиссеров. Однако и сегодня, судя по всему, таганковские спектакли как художественные произведения по-прежнему нередко остаются «закрытыми». Поэтому, вероятно, можно согласиться с мнением одного из критиков, полагающего, что сочинения Любимова трудны, и определившего их как фордизм в современной режиссуре.
Ноябрь 1999 г
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.