Беседа Б. Зингермана и В.Колязина с Ю. Любимовым: о традициях Брехта в Театре на Таганке
Публикуется по изданию: Брехт – классик XX века: материалы Брехтовского диалога 1988-1990 гг. “Брехт – классик! Брехт – классик? Брехт – классик…” во ВНИИ искусствознания. М.: [ВНИИ], 1990. С. 201 – 212.
РУССКИЙ КЛЮЧ К БРЕХТУ
С Юрием Любимовым беседуют Борис Зингерман [1] и Владимир Колязин [2]
Б. Зингерман.Как вы расцениваете сегодня роль своего первого спектакля "Добрый человек из Сезуана", свой выбор? Брехтоведы рассуждают о теоретических проблемах, а у вас все прошло через практику. Ведь все тогда начинали, вы помните, с Розова, с Хмелика, такие инфантильные были герои, очень интеллигентные, чистые, ищущие, милые, А у вас — проститутка, городские низы... И уже этот репертуарный выбор все предопределял. Какие же у вас были побудительные стимулы? Взяли вы Брехта до того, как увидели Берлинский ансамбль, или после?
Ю. Любимов.Так сложилось, что Берлинер ансамбль приехал в Москву, в Театр Вахтангова, а мы уехали в ГДР на гастроли. И я тогда немцев не увидел. Потом вышел, по-моему, в "Иностранной литературе" перевод Юзовского и Ионовой с зонгами Слуцкого. "Добрый человек..." все-таки дал рождение театру, хотя я общем-то и не думал, что так будет. Для меня это была совсем новая драматургия, которая требует разгадки — как к ней подойти. Не забудьте — я был тогда преподавателем. Мне показалось, может быть чисто интуитивно, что здесь должен быть совсем другой тренинг для студентов, другое взаимоотношение с будущим зрителем. Отсюда и мысль — делать диплом на третьем курсе, а не на четвертом, поэтому я был вынужден попросить кафедру утвердить это, в чем мне было отказано: "Вы покажите кусок, тогда мы посмотрим!" К Брехту было отношение скептическое, его пьесы тогда очень мало шли по Союзу. Считалось, что он, рационалист, очень чужд эмоциональности русской школы. Мне же казалось, что все наоборот. Потому что очень уж скучно было.
Я всегда чувствовал себя плохо обученным, потому что рано попал на сцену, и мне казалось, что я недоучка. Поэтому я так много ходил к Кедрову, все хотелось мне понять, чем Станиславский занимался последние годы перед смертью. Это любопытство и побудило меня к тому, что надо попробовать поставить Брехта. А как? Это было очень трудно, потому что у меня не было ни опыта, ни знаний — ничего. Работала чистая интуиция и видение, что можно сделать вот так. Это сразу и вызвало протест учеников, мол, я учу их не системе. Ведь наши актеры в те времена совсем не были приучены общаться с залом. И четвертую стену воздвигли не "как бы", а буквально, доведя все до абсурда — как и всеобщую "мхатизацию", когда объявили соцреализм и исчезли все направления. С соцреалистическими схемами мы дошли до идиотизма — борьба хорошего с очень хорошим. Сегодня это смешно, но мы же всерьез вели такие диспуты.
Б.З.Сейчас у нас борьба плохого с очень плохим.
В.Колязин.И очень плохого с самым наихудшим.
Ю.Л.Другая крайность. Тоже, значит, ничего путного в ней нету.
В.К.Когда вам стало понятно, что все эти новые средства очень родственны мейерхольдовской традиции?
Ю.Л.Я ведь теорией как-то мало занимался. Был артистом, много и довольно удачливо играл — я говорю сейчас не о качестве, а о количестве. Мне очень не нравилась обстановка, в которой я играю, — этот вшивый реквизит, эти пыльные кусты, вся эта мерзость. ...Я просыпался по ночам, меня судороги сводили, потому что порой на гастролях я играл по двадцать шесть — по тридцать спектаклей в месяц, а роли были большие. Я стал ссориться с покойным шефом нашим Рубеном Николаевичем Симоновым. Он мне говорит: "Вам надо играть Кочетова". А я ему: "Ну зачем вы эту дрянь ставите, ради Бога избавьте". Начались столкновения. Я стал меньше играть и пошел преподавать. Все очень случайно и конкретно.
Предположим, сел я гримироваться и думаю: "А что я тон кладу? Что я, женщина что ли? Нехарактерный грим, моя физиономия, а я губки мажу". Я почувствовал себя как-то отвратительно. Взял и вышел без грима — и сразу выговор схлопотал... Стараешься как-то, чтобы плоть и кровь играли, но зачем же тон класть? Симонов и говорит: " Я понимаю, Юрий Петрович, ваши поиски, но давайте, как все, гримируйтесь". Когда у меня появился театр, я отменил грим.
Действительно, когда кафедра посмотрела "Доброго человека ...", она не поняла социальной сущности Брехта. Поразила эксцентрика, то, как двигались ребята, как они пели, и ... разрешили делать диплом. Но когда все посмотрели...
Шагают барабаны в ряд,
Бьют в барабаны,
Кожу на них дают
Сами барабаны—
то закрыли спектакль.
Это счастье, что его поддержали разные слои — и ученые, и писатели. Поддержал и Константин Симонов. В "Правде" появилась заметка: надо сохранить. Мы начали играть в Доме писателей, в Доме актера, в Дубне. Вызывали рабочий класс нас умертвить — два завода, Станколит и "Борец". А им почему-то понравились и песни, и сама притча.
Б.З.Как выкак коренной вахтанговец соотносите брехтовское и вахтанговское? Может быть, вам было легче перейти к Брехту как питомцу вахтанговской школы, чем тем, кто учился в мхатовской школе. Вообще — что осталось от Брехта в эстетике вашего театра до сих пор, какие элементы? Или же вы потом отошли от Брехта?
Ю.Л.Я, конечно, отходил от Брехта, и очень сильно, к традициям нашей литературы — к Достоевскому, к Пушкину, к Гоголю. Но я пошел к ним от Брехта. Эстетика стала меняться. Ведь репертуар неизбежно меняет эстетику.
Б.З.Осталось, я считаю, прежде всего умение сделать зал соучастником действия.
Ю.Л.Да, общение с залом осталось. Но видите, как это быстро уходит. Меня не было шесть лет, и вдруг я приехал и стал ловить актеров в каждом старом спектакле: "А почему вы опять играете между собой, не через зал? Это же не так поставлено, вы стали разрушать мизансценический строй. Все стало менее выразительно". Вот такая тяга к дразниловке жизнью, вдолбленная смолоду всем. Не то, что я так не люблю систему, но нельзя делать дикую унификацию, однообразную школьную программу. А Брехт все-таки приучает к разнообразию, к тренажу.
Б.З.Возьмем пластические элементы ваших спектаклей. Этого в то время нигде не было. Сидели, курили, ходили по комнате и так разговаривали во всех спектаклях. А в "Добром человеке..." обширная пантомимическая часть, которой и Брехт придавал огромное значение. И отсутствие сентиментальности, свойственной Брехту и вашему театру в самые разные годы. Вы не добиваетесь, чтобы зритель плакал у вас на спектаклях, тут господствуют какие-то другие, более строгие чувства. Это, мне кажется, создает какую-то преемственность, ощутимую в нынешних спектаклях Таганки. Только что мы видели потрясающий, трагический спектакль — "Борис Годунов". Но он не такой, чтобы в зале были слезы, была истерика.
Ю.Л.По-моему, в такой пьесе она и ни к чему.
Б.З.Когда-то Блок видел "Трех сестер" в Художественном театре и записал: какую мерзкую истерику кто-то устроил на балконе... Ваша внутренняя позиция — это мужественность, что вовсе не означает рациональность. Я думаю, это тоже роднит вас с Брехтом.
Ю.Л.Просто я очень не люблю этот наш слюнявый пафос. Ведь другая сторона его — пошлая сентиментальность. Это признак безвременья, того, что нет каких-то высоких идеалов.
В.К.Меня поразили в вашем "Борисе" грустные размышления о повторяемости в русской истории, передаваемые прежде всего через пластические метафоры.
Ю.Л.В "Добром человеке..." пластика родилась так: мне казалось, что пьеса чересчур назидательна, что наша публика не подготовлена и что я ее не возьму. Поэтому я начал ее сокращать и выражать это в пантомимах, в движении. Брехт иногда любит быть повторно дидактичным, потому что ему нужно вдолбить какую-то определенную сенсацию. От этого я отходил в дальнейшие годы — от некоторых брехтовской назидательности и прямолинейности.
Б.З.А как с тем, что называется остранением актера от образа, что было и вахтанговской эстетике, и в брехтовской? Не кажется ли вам, что это сохранилось в эстетике Таганки? Если мы вспомнили Золотухина в "Годунове", вашем последнем спектакле, то убедимся, там есть этот момент остранения образа.
Ю.Л.Мне кажется это очень мощным сценическим приемом. Это осталось. Я считаю, что актер в своем техническом оснащении обязан знать этот прием и владеть им, потому что есть возможность показать свою личность, свой ум, свое отношение к происходящему, позицию театра... Сейчас по телевидению давали какую-то муру, и я увидел: они играют, играют, и вдруг раз — в камеру нарочно. Оказывается, такой прием стали употреблять даже на телевидении, и меня обрадовало это желание зацепить сидящего.
Б.З.Остранение идет от народного театра, потому что там всегда играют с образом, не только с публикой.
В.К.В немецком театре в последнее время стали говорить даже о карнавализации как об одном из элементов остранения.
Ю.Л.Вопрос, что понимать под карнавальным ощущением. А об этом наиболее ярко написано все-таки у Бахтина, который в его проявлении видит еще и большую демократичность, и истинную народность. Именно в карнавале стерты грани общественной иерархии. А так как мы с вами жили в сверхиерархическом обществе и только пытаемся из него выпутаться, но пока мы только разговариваем, а оно осталось таким же... Заметных сдвигов нет, действуют все время структуры иерархические, а не прямые. Поэтому, мне кажется, эти формы театра заставляют зрителя приучаться к другой манере общения. Ибо действительно мы переживаем такой момент, когда начинаем понимать, как это проходит рефреном через пьесу Эрдмана "Самоубийца": Нет, так жить нельзя.
Б.З. Мне кажется, первоначальной формой повального алкоголизма и была наша "карнавализация". Мы тогда не заметили, как эта пьянка из формы минутного "освобождения" перешла в форму гибели; а казалось порой, другого выхода не было — такое тогда было напряжение в народе. Это ведь и у вас показано в "Деревянных конях"... Помните, какая в этом спектакле "карнавализация...."
В.К.Что изменилось в вашем восприятии театра Брехта и его места в обществе в период "Галилея" и "Турандот"?
Ю.Л.Что случилось с "Галилеем"?.. Вы знаете, просто мне кажется, "Добрый человек..." более совершенен, лаконичен, прост. "Галилей" более сложен по форме. Там были какие-то причины: то уходил Владимир Высоцкий, то еще что-то. Я даже не понимаю, почему сошел "Галилей", на него публика ходила очень хорошо. Но начальство к нему относилось плохо, оно все время старалось оттуда что-то вырвать, требовало изменений. Спектакль шел лет восемь, даже по нашим масштабам это очень много. Хотя "Добрый человек..." — уникальная вещь, он идет уже двадцать семь лет. "Турандот" же начальство восприняло совсем враждебно. Это просто незавершенная пьеса Брехта, я ее комбинировал. Ее держала прекрасная музыка Альфреда Шнитке, и зонги там были хорошие. Это была суровая вещь, все уходили из этого государства, все кончалось исходом. Мне, несмотря ни на что, казалось, что спектакль возбуждал интерес.
Б.З. Но той легкости, изящества и экономности, которые были в "Добром человеке...", мне кажется, потом уже не было, — если говорить о ваших постановках Брехта. В других, небрехтовских спектаклях — да, это осталось. Я считаю, постепенно в театре началось какое-то размыкание с Брехтом, ваша душа склонялась к другим авторам. И тут не надо искать причины в случайностях. Просто ваш корабль двинулся чуть-чуть в другую сторону, и слава Богу, иначе вы были бы догматиком на Брехте, как другие — на Станиславском.
Я думаю, ваша поправка к Брехту, у которого все-таки есть жесткость, — это русский лиризм. В одной своей статье я когда-то это назвал, имея в виду ваш лирический и антисентиментальный лиризм, "русским ключом" к Брехту...
Ю.Л.Я думаю, что это характер.
Б.З.Сколько бы вы ни "хулиганили", у вас всегда есть эта обреченность на то, чтобы шармировать: "как важно быть приятным". Без этого всякая смелость и резкость сразу же вызывала бы реакцию отторжения. Кстати, сочетание жесткого рисунка и душевной утонченности было характерно и для Елены Вайгель. Когда она играла маркитанку в "Мамаше Кураж", простую женщину в "Матери", это было замечательно, это было остранение, — чего уже нельзя сказать о Гизеле Май. В вашем театре другими способами достигается этот же эффект. Ваш актер — вроде бы он грубый, а какой деликатный... Мне кажется, это, в известном смысле, составляет сущность искусства Таганки и дает такой прочный сплав, который выдерживает любые нагрузки.
Интересно, что в Берлинском ансамбле вроде бы ничего не изменилось, но эстетика из брехтовской, "антитретьерейховской" превратилась в некоторых спектаклях в имперскую эстетику. С этим театром произошло некое чудо: вернулось все то же самое — сантимент, истерика, напыщенная героика, ложный пафос, с которыми боролся Брехт и боретесь вы.
В.К. Добавьте сюда восстановление границы с залом. У меня в последние годы было ощущение, что респектабельная государственная публика ходит сюда уже инстинктивно, как в церковь молиться.
Б.З. Ваш первый спектакль позволяет сохранить эту первородную чистоту эстетики Брехта. Я его видел недавно, и он потряс меня своей сохранностью — это талисман Таганки.
Ю.Л. Немцы долго не видели у нас Брехта. Когда же приехали сюда, они всю ночь, оказывается, ругались. У них целый бунт был после спектакля. Вайгель считала, что я очень вольно обращаюсь с Брехтом, но большинство было за меня и говорили примерно так, как Борис Исаакович говорит: мы это потеряли.
Б.З. Еще одно свойство Таганки — создавать красоту при минимуме средств, не за счет искусственных кустов и драпировок, а как бы из нищеты — так, как Вайгель умела из ватника сделать бальное платье. Вы помните, она ввела ватник в моду, и опять это было остранение, поскольку ее как бы шелковый ватничек был высшей формой элегантности. Некрасивая была женщина, но живая и элегантнейшая. И вот это тоже осталось на Таганке, в наиболее парадоксальной форме выразившись в Высоцком. Ведь демократ — не обязательно хам. Это нельзя терять, чтобы не ударяться ни в ту, ни в другую сторону, ни в мещанскую "красоту", ни в хамство не впадать. Мне кажется, это тоже брехтовская краска, которую вы нашли тогда, — в бедном назидательно-социальном театре нашли красоту. Сейчас же очень многие за красоту - против социальности.
Ю.Л. За абстрактную красоту, даже с нагромождением теоретическим. Крайнее выражение этой тенденции я видел в некоторых наших спектаклях.
Б.З. Что роднит Таганку с Брехтом? Брехт был боец, хотя он был и эстет. Бог знает какой... Как известно, в 20-е годы он ходил в кепке, но эта кепка была сшита у лучшего кепочника Берлина. И это прошло через всю жизнь. Демократизм, красота при бедности, и — никакой буржуазности.
В.К. И еще голубой комбинезон с десятком кармашков для разных идей на память.
Б.З. Эстетика была такая, у них в свое время, у нас — в свое.
Ю.Л. Это желательно всегда оставлять. Иногда это продолжается просто комедийно: ведь нет же ничего. В отчаянии, что все равно не сделают, что ты хочешь, все отбрасываешь... Как в "Годунове", берешь реальность. Мог я добиться только помоста, двух кресел и с трудом достал доску.
В.К. Мне кажется, самая крупная ваша режиссерская находка, то, что образует ваш метод, — это многозначность сценической детали. Она может быть всем и вся, выстраивать всю систему взаимоотношений (это доска, этот железный посох). В таком полиморфизме детали, безусловно, есть и какой-то элемент очуждения, ибо он настраивает на разнообразные эмоции, создает разнообразные дистанции к образу. В этом я вижу черты синтетического мышления, в высшей степени свойственного Брехту и вам.
Ю.Л. Это стремление было не только у Брехта, и у Вагнера оно было, который целый талмуд писал об этом, который трудно преодолеть. Мне кажется, синтез — наиболее сильное средство для достижения каких-то целей, которые ставит перед собой художник в театре. То есть я – любитель такого театра, потому что он дает большие возможности, очень сильно развивает актера и зрителю дает очень много аспектов, точек зрения.
Б.З. Зритель может это воспринимать через разные формы.
Ю.Л. У всякого художника, который возглавляет театральный организм, есть какие-то вещи, которые ему очень дороги и важны. Разве искусство зависит от даты — старое оно или новое. Были споры: зачем, мол, он приехал и восстанавливает старые спектакли. Их закрыли — ну и пускай новые делает. Вот ведь до какого мы дошли идиотизма! А спектакль может обветшать, стать старым, но искусство неподвластно времени.
Б.З. Отношение к искусству как к моде сейчас стало общим местом. И так же на театр, скажем пошло смотреть: вот это уже, дескать, сейчас не носят…
В.К. Талант неразъемен, он и во времени, и вне времени. В случае с Брехтом бывали такие периоды, когда его объявляли устаревшим, даже «мертвым». А Гюнтер Грасс однажды даже написал пьесу «против Брехта», пытаясь доказать, что Брехт одновременно идеализировал народ и боялся его. Считаете ли вы, что Брехт кое в чем устарел?
Ю.Л. Смотря кто его воплощает. Я считаю Брехта создателем политического театра. А поскольку в этом мире все политизировано, его все равно будут играть. И реальность театра показывает, что его играют везде. Значит, все-таки Брехт выше, он не просто драматург, который внес только остроту политики.
Б.З. Брехт был не только большим поэтом, он, кроме того, был гитаристом и исполнителем зонгов до Володи Высоцкого и до Галича, когда еще не было никакой Таганки. Так что не только политика, но и музыкальность вашего театра — продолжение брехтовской традиции.
Май, 1990 г.

Борис Исаакович Зингерман и Юрий Петрович Любимов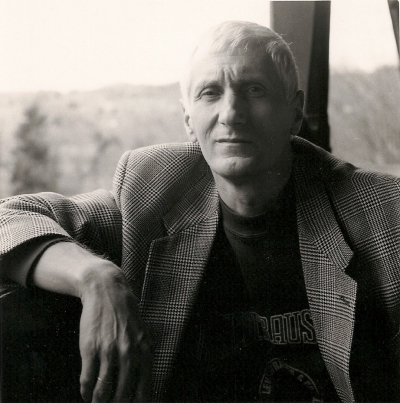
Владимир Федорович Колязин
[1] Борис Исаакович Зингерман — литературный критик, театровед, историк театра
[2] Владимир Федорович Колязин - театровед, специалист по немецкому театру
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.