Интервью Ю. Любимова Дж. Глэду (1986)
Публикуется по изданию: Джон Глэд. БЕСЕДЫ В ИЗГНАНИИ. Русское литературное зарубежье. М.: «Книжная палата» , 1991 . С. 284-293 .

В беседе Джона Глэда [1] c Юрием Любимовым принимал участие Игорь Бродецкий, консультировал Лео Хект. Вашингтон, 1986
ДГ. Посещаемость в советских театрах пошла сейчас на убыль?
ЮЛ. Я думаю, да. Но особенно не надо преувеличивать. Сейчас на Западе какая-то легенда, что всегда советские театры посещались. Это неверно. Бывали периоды, что да. Но бывало и так, что театры полупустовали.
ДГ . Ну, Таганка, МХАТ, Дворец Съездов — они полны.
ЮЛ . Нет, Таганка сейчас не полна.
ДГ. Уже нет?
ЮЛ . Нет, совсем нет. Новые спектакли — такие слухи, а не потому что я злословлю — были неудачными.
ДГ . Вы вините Анатолия Эфроса, что ли?[2]
ЮЛ . Да.
ДГ . Что вы о нем скажите?
ЮЛ . Я не хочу грубых слов. Достаточно, по-моему, одного факта, что он мне пишет открытое письмо из Японии через журнал «Континент». Это что? Реклама для Запада? Какая свобода! Толя Эфрос. Какой смелый господин! Из Японии, через антисоветский журнал он пишет мне открытое письмо.
ДГ . А что он там пишет?
ЮЛ . Что он понимает, что я так огорчен, что я даже, в общем неплохой режиссер, хороший даже. Но почему же, если я уехал, должен умереть театр? Что он даже понимает то, что, может, я хочу, чтобы умер театр… потому что мне обидно, что он продолжает жить, и что, может быть, он станет еще лучше под его руководством. Ну, во-первых, он же знает, что я не уехал, а меня выгнали, - раз. Второе — он знает, что далеко не все остались в театре и что театр не так же дружно работает, как и работал. Он знает, что это не так. Он знает, что никто не хотел, чтобы он пришел в этот театр. И потом, ведь понятно, что он получил разрешение или задание мне написать открытое письмо. Почему он его не поместил в «Литературке»? Или «Советской культуре»? Пусть те, которые так охотно его печатают, и советские граждане разберутся, справедливо его письмо ко мне или несправедливо.
Потому, что все-таки тысячи людей знают истинное положение вещей, как это было. Ведь он знает, что его так же выгоняли. Грубо, унижая достоинство. И что же он, забыл? А потом как он вел себя, когда ездил к вам, давал тут интервью, что он ничем не стеснен, он делает все, что хочет. Что это за ложь? Я же знаю, как ему запрещали спектакли. Как он со слезами на глазах сдавал по пять раз спектакль, как его вообще хотели дисквалифицировать. И мы его отстаивали. Он поставил «Ромео и Джульетту». Они признали, что этот спектакль вообще пародия на Шекспира, что это осквернение Шекспира и такой режиссер не может работать в Москве. И мы собирались — Олег Ефремов, я, еще кто-то — и заступались, просто говорили: «Как вы поступаете? Где у вас такие режиссеры, чтобы вы бросались и говорили, что Эфрос не имеет права по квалификации работать в Москве?» Что, он все забыл, или он это и не знал?
ИБ. Как получилось, что вы дали такое откровенное интервью Брайтсвуду в «Лондон Таймс»?
ЮЛ. Я только что поставил «Преступление и наказание» в Лондоне. И это как раз в дни, когда сбили корейский самолет.
ИБ. Первого сентября восемьдесят четвертого года сбили самолет.
ЮЛ. Да. А интервью вышло пятого сентября. И все началось. Все скандалы. Интервью — это был случай, чистый случай. Я вышел усталый на балкон. Перерыв в репетиции. Рубаха была расстегнута, и был крест. Крест и медальон святого Георгия, моего святого. Брайтсвуд, журналист английский… очень порядочный человек, он про что спросил: «Скажите, а вы верующий, или просто так, брелок — украшение?» - «Ну, в моем возрасте странно носить такие брелоки». - «А как же, вы член партии?» - «Да, говорю, - да». - «А как же, вы член партии?» - «Да, - говорю, - да». - «А как же вы можете?» Я говорю: «Видите ли, я на эти вопросы никому не отвечаю и вам ответил просто случайно… Вы увидели крест, спросили. И мне не захотелось врать, в моем возрасте...» У меня было какое-то странное состояние. Мне стало чрезвычайно противно, я решил, что должен обдумывать каждый ответ, с точки зрения того, как это будет принято там, куда надо возвращаться.
И когда я это подумал, мне стало еще противней. Я решил, что буду говорить так, как мне подсказывает совесть, говорить нормально и так как есть на самом деле. Он был, в общем, в конце интервью обескуражен. И даже сказал: «Знаете что? Я вам покажу потом текст, чтобы вы могли что-то переделать». Я говорю: «Я вам признателен, но я просто посмотрю мысли, чтобы вы не сформулировали по-другому, чем мне хочется, то есть, как я считаю нужным. А в общем, - говорю, - я вам говорил откровенно и менять ничего не собираюсь». Но он… Меня поразило другое. Я до сих пор поражен, что это интервью считается чем-то необычным и что после этого должна следовать обязательная эмиграция и выгон. Мне казалось наоборот: я говорю сдержанно, не сжигая мостов, и не зло, спокойно, но откровенно. И то, что это произвело такое впечатление на моих соотечественников и знакомых, которые считали: «Да ты с ума сошел. Да тебя просто тут же посадят», - этого я до сих пор не понимаю. Я говорил просто, что культурная политика быть такой не может, потому что невозможно работать. Я это считаю и сейчас. Что это никому не дает пользы.
ИБ.Но эта статья в «Таймсе» для эмиграции была как бы вашим заявлением, что вы остаетесь на Западе. Я помню реакцию.
ЮЛ. Да, мне все так говорили. Но я во Франции сделал более жесткое заявление. Когда был с театром, с гастролями, и вернулся. Я действительно не считал, что это заявление есть документ, после которого я вынужден буду остаться. Я им написал заявление с просьбой дать мне отпуск, потому что я действительно четыре года не лечился и был болен. И они мне разрешили. И я не считал, что остаюсь навсегда. Друзья мои все-таки пробились к сильным мира сего. Когда они беседовали с Андроповым, который правил, то он сказал: «Да ну, это такая ерунда, эта статья. Ну зачем, - говорил он, - пусть он возвращается и спокойно работает». Я собирался вернуться, но он умер. И тут же меня выгнали отовсюду: из театра, из партии и т.д. и т.д.
ДГ. Его сын и дочь у вас работали, кажется?
ЮЛ. Нет, они не работали, они хотели работать. Поступали ко мне в театр детьми. Только кончили десятилетку. Я их не принял. За что Андропов мне был глубоко благодарен. Это факт. Когда мы с ним встретились, то он сказал: «Я вам прежде всего благодарен как отец».
ДГ. Что вы детей его не приняли?
ЮЛ. Да. В клоуны не взял.
ДГ. А вы только один раз с ними встречались?
ЮЛ. Нет, я с ним встречался один раз серьезно, минут сорок пять, час… Когда меня первый раз выгнали.
ДГ. Из Таганки?
ЮЛ. Да.
ДГ. А когда?
ЮЛ. Это было…. По-моему, года через полтора после того, как я начал. Он еще был секретарем ЦК, а не в КГБ.
ДГ. Какой это был год?
ЮЛ. Уже Хрущев был снят. Значит, наверное, шестьдесят шестой или шестьдесят пятый. В это время шла по Москве волна слухов, что Сталин будет реабилитирован. А я выпустил спектакль поэтический. Многие поэты были убиты во время войны. Меня обвинили во всех смертных грехах, что взяты не те поэты. Они имели в виду, что очень много евреев. Они предлагали, например, убрать Кульчинского, убитого поэта. А он был сын русского офицера. И вставить Светлова, еврея. Их референты были явно некомпетентны. Я об этом говорил с Микояном, он приехал на спектакль. Меня, значит, представили пред светлые очи. Надо отдать ему должное, когда он посмотрел «Добрый человек из Сезуана» (студенческий спектакль, в театре Вахтангова играли как дипломный спектакль), то сказал: «О, это не студенческий спектакль. Из этого будет театр». И видите, он оказался прав. Он меня спросил: «Как вы живете? Что у вас? Как ваши дела?» Я говорю: «Плохо, Анастас Иванович. Вот, спектакль закрыли, и вообще положение весьма шатко и неизвестно». – «А что такое вы сделали, что у вас получились такие осложнения?».
И я ему сказал: «За что меня ругают?» И он произнес историческую фразу: «А вы их спросите, - это говорил президент страны, - спросите, разве положения двадцатого съезда отменены?» Я говорю: «Анастас Иванович, я, конечно, могу их спросить, если они пожелают меня слушать. Но наверное, лучше, если бы вы их спросили». И он первый раз внимательно на меня посмотрел. До этого не смотрел: маска. А тут, значит, взглянул, как бы оценивая, что я из себя представляю. А потом на эту репетицию, следующую, которую мне хотели закрыть, приехал его сын. Видимо, он его послал. Но вот видите, какая система, президент не решил вопроса. Послал сына посмотреть репетицию. На эту репетицию приехали виднейшие деятели: Келдыш – президент Академии наук, тот же Капица, писатели, Константин Симонов, члены ЦК все… Тут же приехало Управление Комитета по делам искусств, Управление московское, Комитета никакого не было.
И вот они потребовали закрыть репетицию, и чтобы я вывел из зала всех, кто пришел. И тогда сказал: «Я человек робкий и членов ЦК выводить из зала не могу. Вы храбрые, вы и выводите». А там горел вечный огонь павшим. Это же о войне спектакль. О погибших поэтах во время войны. И пожарники сказали: «Огонь вечный горит… Мы затопчем. Нельзя! Пожар будет». Я говорю: «Ну, затопчите. Ведь это в память о погибших на войне. Попробуйте, я на вас посмотрю». И они побоялись и не затоптали. Странно вам слышать? Нет?
ДГ. Странно было бы, если бы затоптали.
ЮЛ. У меня было очень плохое положение, когда ставился спектакль «А зори здесь тихие». Это считается самый советский спектакль, который был одобрен. Даже хотели мне дать какие-то премии, самые высокие, но потом не дали. Фурцева объезжала больных, чтобы они против голосовали. Вопрос перенесли на следующий год. Потому что это был такой нонсенс. Спектакль действительно в общем-то патриотический, повесть средняя, сентиментальная. А спектакль имел огромный успех. Я прочел эту повесть. А у меня было очень сложное положение, мне нечего было ставить. Театр, как всегда, был на грани катастрофы. Я решил, что все-таки повесть имеет какие-то достоинства. В общем, решил поставить. Вдруг меня вызывают в Управление, и мне там знакомые говорят, что они ее запрещают как пацифизм. А я когда шел, то случайно взял «Правду». И вдруг, пока ехал в это Управление, увидел, что этой повести присудили первую премию ПУРа – Политического Управления Армии. И я, значит, в хорошем настроении приехал. Васильев сидит, автор, представители театра, я и все Управление. И начинают ругаться, что это пацифистское произведение. Что вы-де сами понимаете, что в таком виде оно не может быть.
Вижу, автор, Васильев, бледнеет, белый стал. А ведь офицер, воевал. А они говорят: «Ну, что это за безобразие? У вас все девушки погибают. Старшина остается живой. Пусть старшина умрет. Или хотя бы, понимаете, пара девиц пусть умрет, старшина будет ранен, - варианты всякие дают, советы, - тогда может идти разговор, чтобы пошло. Но в таком виде это идти не может». И все один за одним высказываются…
А у меня газетка лежит с первой премией. И я ловлю кайф, как говорит молодежь. Они удивляются, потому что я всегда вставляю реплики, перебиваю. А тут молчу, получаю наслаждение. А они распаляются, кричат… Наконец, тишина наступает. «Ну, что вы скажете? Вы поняли, товарищ режиссер, что вам надо делать?» Я говорю: «Понял. Но вы знаете что? Я удивлен. Первый раз к вам учреждение пришел писатель. Посмотрите на него. Он бледный. Очки у него даже запотели. И губы, говорю, дрожат. Какого же он мнения будет о вас? Вместо того чтобы его поздравить…» Они говорят: «С чем это мы его должны поздравлять? Он должен переделать – не поздравлять же за это! Повесть переделывать он должен». Я говорю: «Это ваше мнение, но есть и другое мнение, - и «Правду» показал. – Надо его поздравить. Видите, вы тут говорили, что это надо запретить, министерство обороны будет протестовать. Но они все дружно дали ему первую премию. А вы его не поздравляете, а требуете переделывать».
Самым умным был главный. Он молчал. Он был хороший шахматист, Родионов.
ДГ. И тут же все переиграли?
ЮЛ. Да, безусловно. Но он-то молчал. И поэтому сразу сделал резюме: «Вот видите, товарищи, и мы можем ошибаться. Давайте прислушаемся». - «Вы знаете что?» - сказал он. - Вы работайте, работайте над этим произведением. А мы посмотрим и потом решим».
ДГ. Спектакли ваши сохранили какие-нибудь?
ЮЛ. Да, но фамилии нет моей. Они меня вычеркнули из учебников театральных, энциклопедии. Нет такого, и все. Но это не только со мной, и с Солженицыным, и со всеми. А что я особенного сделал? Какой я преступник, чтобы меня так ненавидеть? Я пришел к заключению, что это обида. Мы тебе, сволочь, все дали, а ты, сукин сын, мерзавец, наплевал нам в рожу. Я помню, чтобы натравить советских на Сахарова, они говорили: «Семьсот пятьдесят рублей получает, сука. Пятьсот как академик и двести пятьдесят как научный сотрудник». И советский человек стервенел: «Сука!» А Запад смеется, действительно: Сахаров… семьсот пятьдесят рублей — предел его мечтаний.
ДГ. А Брехта вы знали?
ЮЛ. Нет. Так и не видел. И когда я ставил Брехта, ни разу не видел ни одного его спектакля. Потом меня Елена Вейгель пригласила, когда уже Брехт умер, на его чествование. Я был в Западном Берлине. Как личный ее гость, потому что советские не хотели меня пускать. Она меня лично пригласила, и они не могли отказать, неудобно было. Потом она была в Москве с ансамблем, и были очень жаркие дискуссии относительно Брехта. Она считала, что я слишком вольно обращаюсь с ее мужем. Она так говорила, потому что успех ее как-то сдерживал. Это же успех Брехта, не только мой. Но труппа вся была на моей стороне, а не на ее. Так что она вынуждена была меня пригласить поставить спектакль. Она хотела, чтобы я ставил Маяковского. Но меня не пустили. Потом Ведвхарт — сейчас он президент академии ГДР — странную вещь сделал. Он сам хотел поставить Горького, а чтобы я поставил Брехта. Я говорю, зачем? Может, лучше наоборот? Он говорит: «Нет, гораздо лучше комбинация, именно что вы поставили Брехта, а я поставил вашего Горького».
ДГ. Есть ли русская театральная традиция?
ЮЛ. Безусловно. Но видите ли, я не настолько стар, чтобы помнить дореволюционные традиции, хотя по литературе я их знаю. Это традиции Щепкина, Мочалова, крупнейших русских артистов. Щепкин был крепостной, и дед мой был крепостной. Все это кажется чрезвычайно далеко, а на самом деле это как-то вдруг фиксируется и становится абсолютно реальным.
ИБ. Советские критики говорят, что театр должен служить народу, что западный театр служит развлечению, а русский искореняет язвы, учит добру и борется с несправедливостью.
ЮЛ. Искореняет? Ничего он не искореняет. Это мои выводы. Искусство никогда ничему не учит. Это только глупые правители увеличивают его значение. Это Сталин говорил обыкновенно глупости всякие. Мой друг Николай Робертович Эрдман, он был сценаристом: «Волга-Волга», - фильм, который Сталин обожал. Александров был режиссером. И Сталин его смотрел раз восемнадцать, как «Дни Турбиных». У него были какие-то странности.
ДГ. Меня это всегда поражало, почему?
ЮЛ. Ну, «Волга-Волга», видно, его развлекала, он говорил фразу всегда оправдывающую: «Пусть бюрократы смотрят на себя и делают выводы».
ДГ. Но «Дни Турбиных» почему?
ЮЛ. А «Дни Турбиных», видимо, его пленяли все-таки… Он ведь смотрел-смотрел, а потом взял и ввел погоны, царскую форму. Всю эту демагогию армейскую… Комиссары, собрания и так далее — он ликвидировал перед войной.
ДГ. Ну, все-таки какой-то серьезный интерес был к русской эмиграции у него. Это же переработанная «Белая гвардия».
ЮЛ. Да, да, это верно. Я думаю, что им владели другие принципы, другой век. Не принципы, а другое у него вертелось в голове, другие мысли, и поэтому столько раз смотрел. Я думаю, что в душе он был прирожденный монархист. Ему было совершенно наплевать на Маркса с Энгельсом в придачу и с прочими. Я лучше перейду к шуткам. Он приехал в МХАТ, смотрел…. Оказывается, не так все просто, все считают: МХАТ, Станиславский, любимый театр Сталина… Станиславский патологически его боялся, как и Шостакович. И Сталин пригласил его в ложу. Это факт, это рассказывает свидетель.
ДГ. Кто?
ЮЛ. Станиславский. На «Дни Турбиных» Станиславский пришел и очень волновался. Сталин сидел со своей свитой, и Станиславский с перепугу … представился: «Алексеев», - фамилию свою назвал. Сталин на него посмотрел, не вставая, конечно, и сказал, протягивая руку: «Джугашвили!» Потом подумал, помолчал и сказал: «Скучно у вас, скучно». И свита начала: «Понимаете, все-таки можно было представить как-то поэнергичнее, повеселей». Станиславский, бедный, совсем растерялся. А этот, как сейчас говорят, ловил кайф, а потом так: «Скучно… в антракте». И все начали, значит, холуи, поздравлять Станиславского: «Как хорошо, что скучно в антракте!» Ведь он любил так … по-садистски. А вот тогда драматург был такой — сейчас никто его не знает, не только у вас, но и в СССР, - Афиногенов. Смотрели они пьесу Афиногенова «Страх». И Сталин сказал ему фразу Толстого: «Вы меня пугаете, а мне не страшно. Вам надо учиться, дорогой, писать пьесы!» А тот так: «Ну, не у белогвардейца же Булгакова!» Сталин посмотрел на него и сказал: «А почему бы и нет?» Он позволял себе такие вещи. А когда Станиславский с Немировичем просили заступиться за Булгакова и всячески старались, чтобы его судьба изменилась (тем более, Сталин все время ходил на «Дни Турбиных»), то он ответил потрясающе. Он сказал: «А какое отношение имеет пьеса к этому писателю? Никакого!»
ИБ. Юрий Петрович, вы взошли яркой звездой на московском небосклоне, поставив «Добрый человек из Сезуана» еще с группой студентов. Как власти восприняли этот спектакль? С одной стороны, я знаю, из группы сделали театр, то есть спектакль был одобрен, но с другой стороны, я помню, что он был недоступен, был под полузапретом. Что в этом спектакле пугало власти?
ЮЛ. Спектакль закрывали не власти, а кафедра, где я был преподавателем. Кафедра испугалась реакции зала. Была очень бурная реакция…
ИБ. А чем был потрясен зал?
ЮЛ. Я думаю, необычной формой и, в общем, резкостью Брехта, которая не очень импонировала советской власти.
ИБ. Против чего она возражала в Брехте, который был лауреатом Ленинской премии? Что не устраивало в нем советских идеологов?
ЮЛ. Многое. Ну, в формотворчестве они мало понимают. Их слова не устраивали. Например: «Зона, зона… Шагают бараны в ряд. Бьют барабаны. Шкуру на них дают сами бараны!»
ИБ. Или, например, крик Доброй Женщины из Сезуана к залу. Это у Славиной получалось совершенно потрясающе. Когда она обращается к залу и кричит: «Все видят и все молчат!» Вы помните эту фразу или нет?
ЮЛ. Да я-то помню, и не только это. Призыв к доброте в то время, как советская власть учили людей почти семьдесят лет жестокости? Я думаю, нет. Дело не в доброте. Они не прочь были демагогически все это поддерживать. Просто резкость Брехта, ну, как вам сказать, Брехт – это очень политический театр, а им политический театр был не нужен, - а грубо агитационный, который проповедует их сегодняшние лозунги. А другое ничего не нужно.
ИБ. Вот Джон Рид – прокоммунистически настроенный американец – написал книгу «Десять дней, которые потрясли мир», казалось бы, очень советский спектакль.
ЮЛ. Нет, Джон Рид, в общем, серьезный писатель. Он отдал жизнь, и, кстати сказать, американская картина «Красные» очень интересная…. очень глубокий фильм. Там есть сцена поразительная, где вот эта женщина с ним разговаривает и говорит: «Неужели ты не видишь, куда это все идет?» Эта сцена очень сильная. Недаром этот фильм не пошел в Советском Союзе. И не пойдет никогда.
ИБ. А я думаю, что, вырезав два-три кадра, они могли бы спокойно показывать его у кремлевской стены.
ЮЛ. Надо было бы вырезать одну треть. Все основные сцены, самые узловые сцены надо было бы вырезать, чтобы он пошел в Советском Союзе.
ИБ. Ну, хорошо, а что делало ваш спектакль таким, фигурально выражаясь, контрреволюционным?
ЮЛ. Он таким не был. Они бы его закрыли, если бы он был таким. Это было просто очень яркое театральное зрелище. Почему они не очень были довольны? Потому что до этого спектакля никто так революцию не показывал. То есть так весело, озорно, театрально. В этот период (это же было двадцать лет назад, больше даже, двадцать два года назад) унылая картина была Советской России. Это была такая тупая всеобщая «МХАТизация». Как английский газон. Только он красивый, а тут газон вытоптанный, мрачный. А тут были разные жанры и стили… и театр теней… все жанры смешаны, поэтому он вызвал такой интерес и до сих пор идет при полных аншлагах, - и это про революцию. Не бывало так никогда, всегда полупустые залы на этой теме. Но это была, скорее, моя театральная полемика о возможностях театра вообще, как искусства. Что он может быть очень интересен и занимателен.
Там были гротеск, фантастика, пантомима… Потом, он был очень богат по выразительным средствам. Поэтому и производил такое впечатление. Хотя был в чем-то раскритикован «Правдой». Когда, позже, меня совсем уничтожали за спектакль «Мастер и Маргарита», то там были блестящие цитаты: «Как человек, поставивший такой замечательный революционный спектакль (который они ругали до этого), мог опуститься до такого маразма, чтобы поставить вот этот… «Сеанс черной магии на Таганке». Они назвали так статью в «Правде» о «Мастере и Маргарите».
ДГ. В каком году это было?
ЮЛ. В 77-м, кажется.
ДГ. Хочу вернуться к вопросу традиций. Вот современный русский театр – в какой степени опирается на русское театральное наследие Островского, Чехова?
ЮЛ. Вы знаете, опирается довольно активно. Ну, хотя бы потому, что играют эти пьесы.
ДГ. Только ли?
ЮЛ. Нет. Играют и находят средства, чтобы они звучали очень современно.
ДГ. Ну, а Островский что может дать современному зрителю? Разве он актуален сегодня?
ЮЛ. «Доходное место», например, поставлен в Театре сатиры Марком Захаровым. Спектакль закрыли.
ДГ. А почему закрыли?
ЮЛ. Очень современное звучание.
ДГ. Понимаете, меня что интересует? Именно вопрос русской, именно русской театральной традиции. Есть ли она, в отличие, скажем, от традиции американской национальной? В какой степени ваши постановки не старых русских пьес, а современных русских пьес восходят к Сумарокову, Пушкину, Чехову? Или, может быть, то, что вам трудно ответить на этот вопрос, показывает, что русской традиции уже нет?
ЮЛ. Видите ли…
ДГ. Все-таки вы всячески уклоняетесь.
ЮЛ. Нет, нет. Я никогда не уклоняюсь. Может быть, очень трудно выразить это… внятно. Я думаю, традиция – она ведь странна. Возьмем «Гамлета».
ДГ. «Гамлет» в русской традиции?
ЮЛ. Да. А это и не важно, гениальная пьеса, универсальная. «Порвалась связь времен. Неужто я связать ее рожден?» Ведь когда была выставка «Париж-Москва-Москва-Париж», то там очень ясно: оборвалась эта традиция. Пришел Сталин и оборвал эту традицию. То есть был театральный Октябрь, который считался расцветом и продолжал лучшие традиции русского театра. И потом наступил обрыв. Обрыв в живописи, в литературе – во всех областях. Поэтому, когда вы говорите о продолжении русской традиции, так я мог продолжать только через моих старших друзей. Каким образом? Я вам скажу. Драматург Эрдман – замечательный человек – рассказывал мне о Станиславском, который пронес эти традиции до революции. И старался обновить театр. Театр всегда, как всякое искусство, нуждается в обновлении, реформации и просто, что ли, в продолжении поиска. Потому что искусство иначе не может развиваться. Как и жизнь человека. И традиции я ощущал только через рассказы моих старших друзей. Например, все традиции Станиславского я впитывал через его лучших учеников, которые старались это передать. Традиции Мейерхольда я также воспринимал через моих друзей, которые были близки с Мейерхольдом.
ДГ. А не через театральную постановку?
ЮЛ. Нет, нет.
ДГ. Почему?
ЮЛ. Я скажу вам почему. Постановки умирают, они становятся старые, ветхие. Они становятся музейными, как мы с вами, как одежды наши. Профессионал, конечно, это увидит. Когда я смотрел постановки Брехта, они уже были старые, увядшие. Я мог, как профессионал, угадать, что они были когда-то интересные. И поэтому я даже смотрел старые МХАТовские спектакли. Но я смотрел спектакли МХАТа, которые были навеяны Станиславским и его учением, и их уже делали его лучшие ученики, которые наиболее остро воспринимали его искания… Кедров - в «Плодах просвещения» Толстого, даже в «Глубокой разведке», то есть я воспринял эти традиции через лучших актеров, через лучших режиссеров. Или я сам видел интересные спектакли – актерские, режиссерские – и понимал, откуда они пришли и как были пресечены в определенное время, то есть в период безвременья, когда и цензура и глупая политика в области культуры сделали их нейтральными и неинтересными.
ДГ. Какие годы?
ЮЛ. Ну, это сталинские годы террора, конечно. Если двадцатые годы – расцвет, то тридцатые годы были полноценным падением.
ДГ. Ну, вот другой вопрос. Некоторые считают, что вы меньше ставите современных западных пьес, чем могли бы. Правда это?
ЮЛ. Может быть. Но видите ли, все-таки театр возник на Брехте, который был очень мало популярен и очень мало ставился. А так как мой театр был все-таки авторский, то я мучительно искал современных писателей и поэтов и классическую литературу, через которую я мог выразить мои какие-то тревоги, желания, сомнения, поиски новых театральных форм.
Вот Высоцкий – представитель авторской песни. Он сам исполнял, сам сочинял текст. Так и я сочинял свои композиции и сам это делал. Весь репертуар фактически был мой. Я его ставил. И свои адаптации я, как правило, делал всегда сам. Это было просто редкое явление в театре, потому что всегда был там главный режиссер, который приглашал других режиссеров, и они ставили спектакли. А в этом театре весь репертуар ставил я сам. И он был…. Создался этот театр… То, чему я учил своих студентов, потом переросло в театр. И дальше я вел этот театр двадцать лет. Поэтому это и был авторский театр.
ДГ. Театр на Таганке будет сохранять свою новаторскую роль?
ЮЛ. Нет, нет и нет. И не может по многим причинам.
ДГ. Именно?
ЮЛ. Это не нужно. Тогда это было нужно нам, какому-то слою советского общества, а сейчас просто держат этот театр ради сохранения престижа и ради того, чтобы показать, что все нормально.
[1] Джон Глэд (John Glad) — американский славист, критик, публицист, переводчик.
[2] Интервью у Юрия Любимова взято в начале 1986 г., до смерти А. Эфроса.
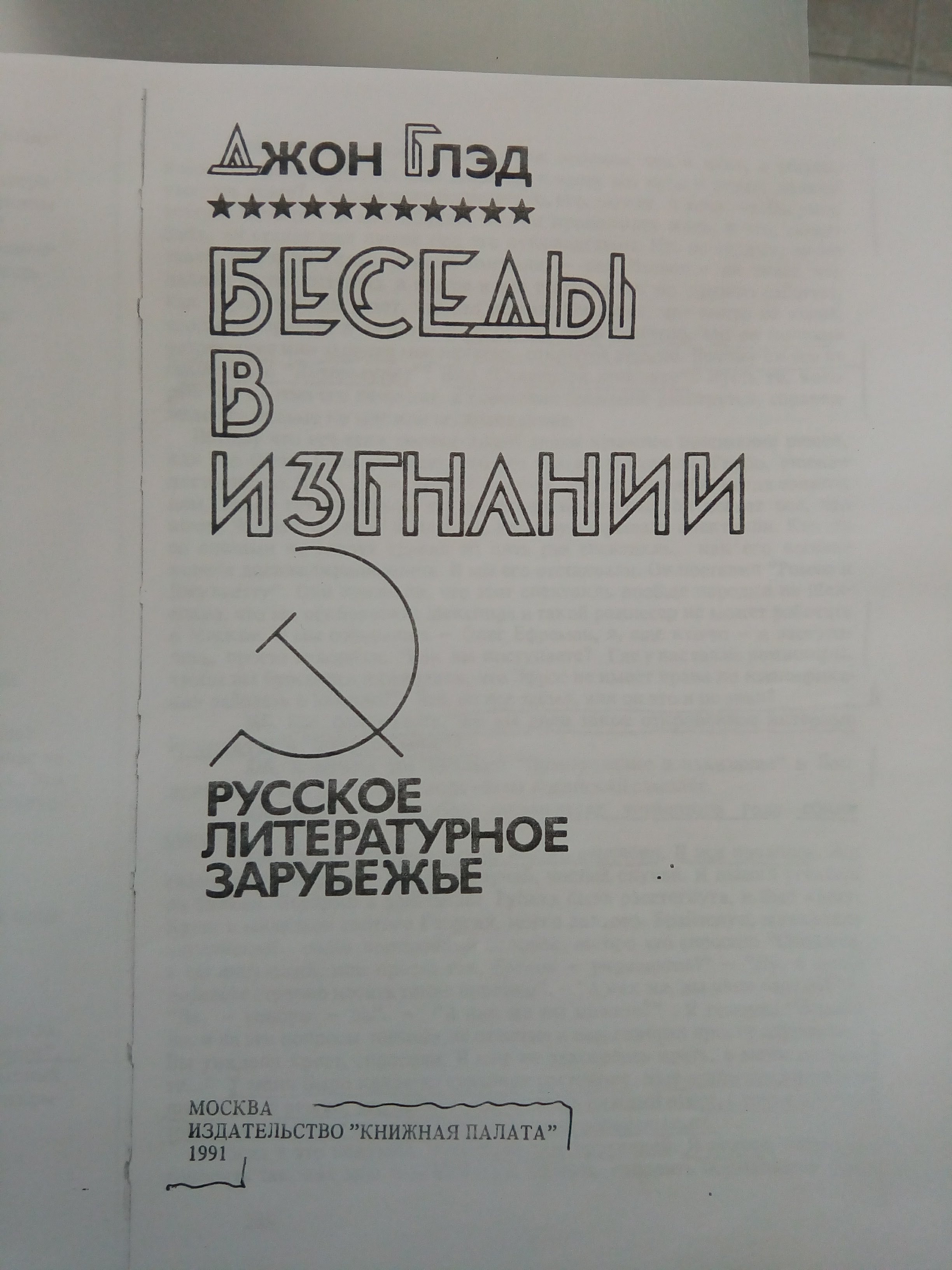
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.