«Чтобы достучаться до людей, нужны слова, которые не вызывают отторжение»
Автор: Татьяна Сохарева
В издательстве Clever вышли первые две части «НЕучебника по русскому языку», в котором каждая глава посвящена орфографической проблеме. Один из авторов учебника, лингвист Максим Кронгауз рассказал, почему мы так плохо принимаем новые слова (от «харассмента» до «виктиблейминга»), а учебники по русскому сильно устарели.
Мне показалось, что «Неучебник» — тот проект, который меняет наш подход к потреблению знаний. В мире медиа это, например, Arzamas и «Полка». Как вы думаете, почему для того, чтобы заинтересовать ребёнка в предмете, должна появиться эта отрицательная частица — антишкола, неучебник?
Школа задаёт очень жёсткие рамки. Если бы мы писали учебник, рассчитанный на широкую аудиторию, нам пришлось бы соблюдать множество требований. В процессе работы над книгой я столкнулся с ощущением, что чем больше аудитория, тем проще надо сделать учебное пособие. То есть тем меньше туда попадает материал, который кого-то может возмутить, кому-то просто не будет понятен. Эта задача опустошает автора и, конечно, обедняет книгу. В случае с «Неучебником» мы могли позволить себе всё, что хотели. В качестве адресата мы представляли ребёнка, которому интересен русский язык. Поэтому мы и смогли написать о многих вещах подробнее и глубже, чем предлагают более конвенциональные учебники. В школе это очень трудно сделать. Я говорю даже не о разных способностях детей, а об уровне заинтересованности.
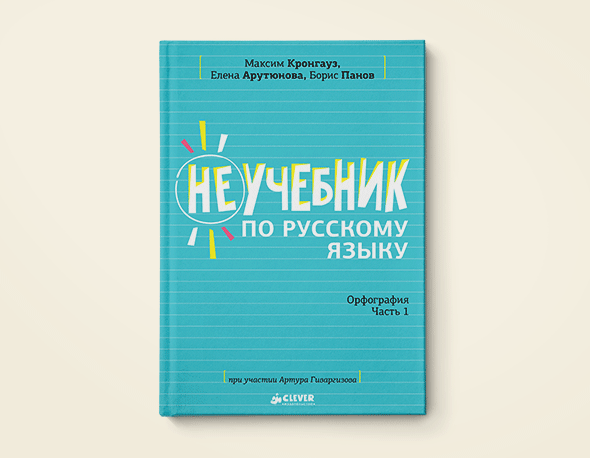 Две части «НЕучебника по русскому языку» вышли в издательстве Clever в 2018 году
Две части «НЕучебника по русскому языку» вышли в издательстве Clever в 2018 году
С точки зрения языка «Неучебник» скорее относится к художественной литературе, чем к учебной. Насколько это явление сейчас распространено? Можно ли говорить о пересмотре традиции?
Боюсь, оно даже слишком распространено. Развлекательное обучение, для которого в английском языке существует специальное слово edutainment, нередко уводит нас от сути предмета, а это уже другая крайность. Если, работая над учебником, мы должны говорить с ребёнком максимально просто и понятно, чтобы растолковать предмет тем, кому он не очень-то и нужен, то в случае с более развлекательными книгами мы пытаемся рассказывать о нём интересно, но опять же поверхностно. Это тоже приводит к обеднению текста.
Идея состояла в том, чтобы написать учебник, так сказать, от души — не делая ребёнку скидку и не думая о том, что мы должны всё время совершать какие-то развлекательные манёвры, чтобы он, не дай бог, не отошёл от книги. В итоге она вышла чуть сложнее, чем школьные учебники. Я уверен, что не все дети её осилят, но тем, кто за неё возьмётся, без сомнения, будет интересно её читать.
Текст был для нас главным понятием. Современный учебник по русскому языку нельзя взять и прочесть, он в принципе для этого не предназначен — в отличие от, скажем, учебников по истории или биологии. Чаще всего он состоит из схем и таблиц. Мне кажется, что в курсе русского языка обязательно должны быть тексты, хоть и считается, что современные дети не умеют читать, им обязательно нужны таблицы, рисунки, стрелочки. Мне очень хотелось эту тенденцию переломить, поэтому каждую главу у нас предваряет текст детского писателя Артура Гиваргизова. У него яркая писательская манера — кому-то она близка, кому-то, возможно, не очень, но нам было важно сделать тексты, которые вызывают у детей эмоции. Отталкиваясь от этих произведений и орфографических проблем, с ними связанных, мы ведём разговор о языке. Более точный, чем в школе, как мне кажется, потому что я как лингвист часто вижу недоделки в стандартных школьных учебниках.
Какие недоделки, например?
Их довольно много. Я приведу пример, который постоянно меня цепляет. Вот, скажем, обсуждаем мы проблему чередования корней и берём корень твор-/твар-. Какие примеры приводятся в школьных учебниках? Слово «утварь», которое современному ребёнку, во-первых, совершенно непонятно, а, во-вторых, он никогда не увидит в нём собственно корень твар-. Зачем такой пример нужен? Или, скажем, в качестве примера на корни раст-/рост- мы всегда встречаем название города Ростов. Исторически оно действительно связано с этим корнем, но какое отношение сегодняшний Ростов имеет к идее роста? Никакого.
Мы постарались отбросить такие вещи, правда, всё равно проговорили причины, чтобы не испугать учителей, которые будут негодовать: «Неужели они забыли о Ростове?». Нет, мы не забыли, мы сознательно его не берём. В школах есть традиция повторять то, что было сказано предшественниками, не задумываясь о том, насколько эта информация актуальна. Связь времён — это, конечно, хорошо, но иногда она превращается в чистой воды комедию.
Вы стремитесь реформировать язык разговора между ребёнком и взрослым, учеником и учителем?
Этот вопрос связан с тем, с чего я начал. Мы предлагаем ребёнку тексты, которые он должен читать, то есть разговариваем с ним. Мы не рисуем схемы и стрелочки — хотя они у нас тоже есть. Идея разговора была для нас ключевой. В курсе русского, как мне кажется, ни в коем случае нельзя игнорировать общение, а современные ученики часто поглощены методикой, которая общение исключает.
Сейчас часто говорят, что мы всё больше привыкаем к быстрым форматам знания. Стоит ли ожидать, что вскоре мы перейдём на подкасты портала Arzamas и откажемся от традиционных учебников?
Мне кажется, эти форматы не противоречат друг другу. Наша книга тоже не должна восприниматься как универсальная. Идея единого учебника, которая периодически у нас обсуждается, чрезвычайно вредна. Есть дети, которым нужны короткие клипы. Есть те, кто захочет прочитать «Неучебник». У нас нет амбиций охватить всех и вытеснить другие учебники. Важно, чтобы книги не толкались и не выпихивали друг друга, крича: «Я главная, оставьте только меня!». Должны быть разные учебники и разные подходы к детям.
Но вы предполагаете, что «Неучебник» будет использоваться в школах как основная книга?
Как основная, наверное, нет, но я предполагаю — и даже позволю себе наглость — уверен, что учителя будут его использовать, и детям он будет интересен.
Многие жалуются на количество заимствований в русском языке, особенно в комментариях. Почему эта фобия настолько живучая? Понятно, что язык стремительно меняется, но всё же.
Людям, сформировавшимся до перестройки, очень важна стабильность, а последние тридцать лет язык постоянно менялся, впитывая большое количество заимствований. Заимствованные слова — это чужое, а чужое часто может вызывать отрицательные эмоции. Те, кто вырос после перестройки, практически не испытывают дискомфорт, потому что они сформировались в этом буйном море перемен, для них это нормальное состояние языка. В целом, я думаю, что заимствования неизбежны, причём не только в области языка — мы много чего берём у мира.
Наш язык устроен таким образом, что он очень хорошо перерабатывает чужие слова и присваивает их. Это, например, произошло со словом «лайк»: в русском язык появились глаголы «лайкнуть», «облайкать», «лайкануть». В обрамлении русских суффиксов и приставок оно уже не воспринимается как заимствование в чистом виде. Понятно, что, когда идёт поток новых слов, многим это не нравится. Люди постарше имеют право возмущаться, а люди помоложе — употреблять эти слова.
За последние пару лет в русский язык хлынуло много заимствованной лексики, связанной с травмой, насилием, пересмотром гендерных норм. Но до детской и подростковой литературы она вряд ли доберётся в ближайшее время, учитывая, что даже взрослые ужасаются, когда видят слова «виктимблейминг», «газлайтинг» и «менсплейнинг». Какой путь этим заимствованиям предстоит пройти? Могут ли они войти в наш активный словарный запас?
Проблема в том, что зачастую людям сложно воспринимать именно эти слова, а, значит, и идеи, которые стоят за ними, оказываются недоступны. Конечно, для разговора о травме и насилии, благотворительности и милосердии нам нужны слова, которые были бы понятны всем. Это принципиальная вещь.
Если я буду использовать сплошь заимствования, я вряд ли сумею пробиться к широкой аудитории. Здесь необходимо языковое творчество
Если мы не найдём нужные слова, то и идеи не будут обсуждаться. Представьте, что бы было, если бы мы заговорили этими словами на школьном уроке? В лучшем случае это вызвало бы усмешку. Чтобы достучаться до людей, нужны слова, не вызывающие отторжение.
Как вам кажется, эффективна ли стратегия агрессивного насаждения новых слов и новых норм?
Она очень распространена сейчас, но я не считаю её эффективной. Используя её, мы сохраняем пропасть между носителями этих идей и той аудиторией, до которой они хотят достучаться. В этом заключается беда просветителей, которые не умеют просвещать на родном языке. Главной задачей христианских миссионеров, например, было перевести Священное Писание на язык того народа, с которым они разговаривали. Если мы хотим нести какие-то идеи, которые пока ещё не очень активно обсуждаются, нужно искать слова.
Феминитивы многими до сих пор воспринимаются как сленг небольшого субкультурного сообщества. Как им выйти из этого гетто?
Выходить из гетто нужно без оружия. Когда оттуда слышатся выстрелы, это сильно осложняет ситуацию. Сегодня нам трудно договориться по поводу феминитивов, потому что оружие есть у каждой из сторон конфликта. Изменения, связанные с пересмотром социальных норм, успешнее проникают в русский язык в том случае, когда ведётся обсуждение. Ультиматумы всегда будут вызывать вопросы. Если мы посмотрим на сообщество людей с ограниченными возможностями, мы увидим, что там активно обсуждают слова с отрицательным шлейфом. Если какие-то из них неприятны людям, им ищут замену в процессе диалога.
Феминистское сообщество более агрессивно: те же феминитивы оно требует ввести в ультимативной форме. Причём речь идёт не о феминитивах, которых в русском языке, конечно, очень много, а о словах неудобных и непривычных — «авторка», «режиссёрка». Но, если мы хотим изменить язык, нужно договариваться. Опыт Европы и отчасти Америки показал, что иногда можно и надавить, чтобы что-то изменилось, но, мне кажется, в наших условиях это пока не пройдёт. Такие изменения всё равно не будут приняты большинством.
В каком формате возможен такой диалог? Может ли помочь какой-то регулирующий орган, который взялся бы за проблемы языка?
Все попытки регуляции языка подобными органами, как правило, вызывают скандалы. Все помнят, как десять лет назад мы обсуждали, какого рода «кофе». Кроме того, нужно учитывать не только менталитет, но и масштаб страны. Чем меньше существует людей, говорящих на языке, тем проще им достигать согласия.
В такой огромной стране, как наша, очень трудно заниматься регуляцией языка — где-то вы его отрегулируете, а где-то нет
Я уже не говорю о том, что русский язык существует не только в пределах нашей страны. Пока что все попытки, которые были сделаны министерством образования и академией наук, — это неудачные примеры.
Как вы считаете, правда ли в последнее время растёт внимание к языку и его проблемам или все споры, которые мы видим, — локальные явления?
Интерес к языку действительно сейчас очень большой: кто-то переживает из-за заимствований, кто-то кричит, что язык умирает, кто-то, вроде меня, наоборот, всех успокаивает и говорит, что всё нормально. Очень хорошо, что мы имеем возможность говорить об этих вещах. Язык привлекает к себе внимание. Он стал настоящим ньюсмейкером. О нём постоянно пишут и говорят. Если бы мы все молча копили недовольства, было бы намного хуже.
