Максим Кронгауз — о языке психотерапии, который стал важной частью живой речи
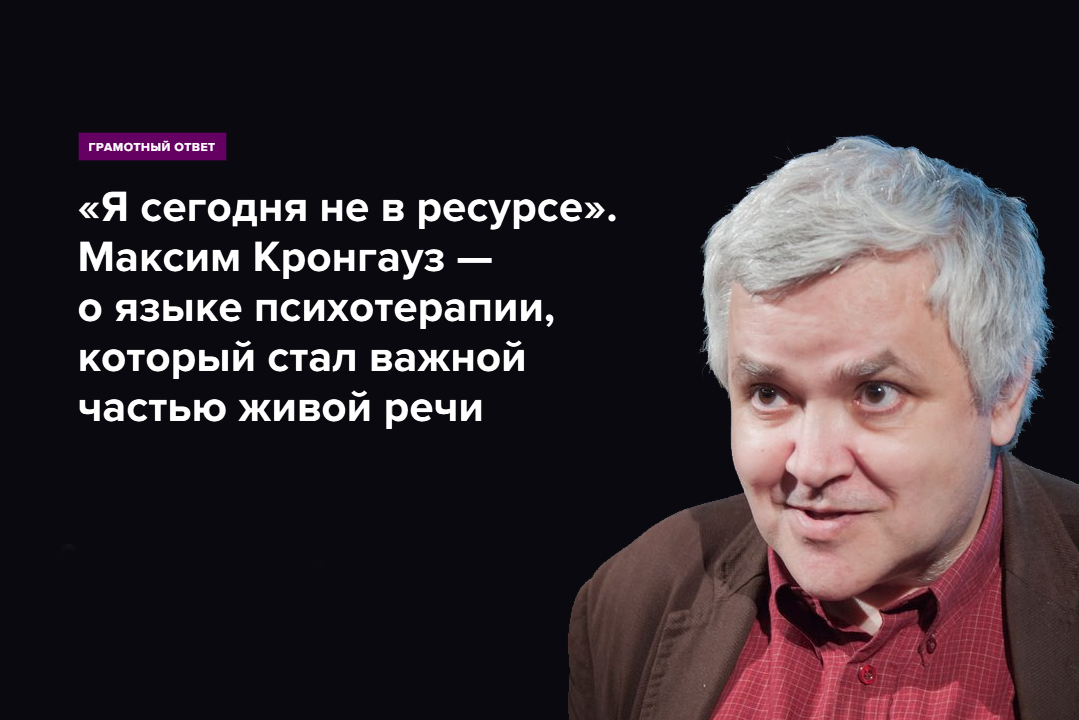
«Уже почти десять лет тема психологической травмы стала одной из главных в нашем коммуникативном пространстве, а подходящего языка для этого не было. Зато у психологов и психотерапевтов он был. Одно из его важных свойств — подчеркнутая неэмоциональность, а один из главных приемов — физическая метафора.
Для описания внутреннего мира человека используются такие «материальные» слова с физически ощутимым значением, как «ресурс», «границы», «контейнер», «канал», «токсичный» (то есть «ядовитый»), ну и «травма», наконец.»
«Лет тридцать назад мы не говорили публично о сексе, насилии, психических травмах и срывах. Многие темы были табуированы, на многое смотрели иначе. Как теперь принято говорить, у нас была другая оптика. Для выражения внутреннего мира были слова, выражающие эмоции: «любовь», «ненависть», «гнев», «страх»… Они были скорее бессистемны, физическая метафора почти не использовалась (хотя, конечно, выражения типа «У меня на сердце камень» существовали и раньше).
В книге «Русский язык на грани нервного срыва», вышедшей в 2007 году, я описал несколько лексических волн. Одной из самых ярких была «криминальная волна» 90-х годов, то есть вброс в общее коммуникативное пространство бандитской лексики: «крыша», «наезд», «рэкет», «киллер», «фильтровать базар», «забить стрелку», «братва» и т. п.
Из недавних волн я бы назвал не очень мощную, но тоже яркую молодежно-музыкальную, связанную с рэпом и другими новыми направлениями. Именно она принесла в русский язык такое немузыкальное, но важное слово, как хайп.»
Научно-учебная лаборатория лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик: Заведующий лабораторией
Все новости автора
