Алексей Плешков выступил на международной конференции в Париже
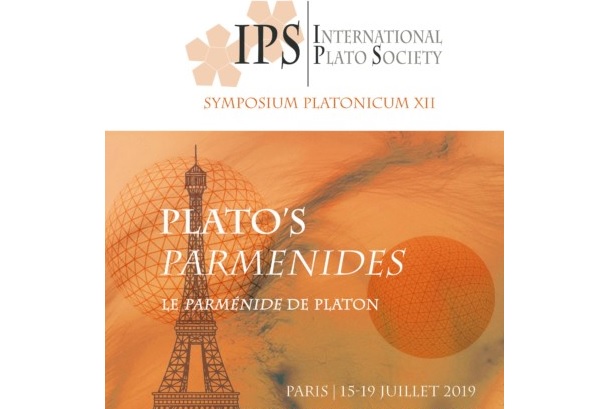
Конференция проводилась Международным Платоновским Обществом (International Plato Society), при поддержке Национального института истории искусств (INHA: Institut national d'histoire de l'art), Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Греческого посольства в Париже (Ambassade de Grèce à Paris) и еще 10 образовательных и исследовательских институтов Франции.
Программа конференции
Аннотация доклада А. Плешкова
Понятие вечности играет важнейшую роль в платоновской философии. «Вечные идеи», «вечный мир идей» – столь часто встречающиеся в литературе словосочетания, что «вечное» воспринимается практически как синоним «идеального». Несмотря на безусловную значимость категории вечного у Платона, вплоть до «Тимея» он не предлагает более или менее полного описания понятия. Однако и в «Тимее» описание вечности (так же, как и вечного) неоднозначно и вызывает споры как в историко-философской, так и философской литературе.
Существует две основных стратегии интерпретации понятия «вечность». Во-первых, под вечностью можно понимать бесконечность во времени: x вечен, если и только если нет такого прошлого, когда бы x не существовал, и нет такого будущего, когда x не будет существовать. Эту стратегию можно назвать темпоралистской. Во-вторых, под вечностью можно понимать трансцендентность времени и длительность: x вечен, если и только если ни один элемент x не является частью темпорального ряда. Это стратегия традиционного этернализма. Обе эти стратегии применяются для интерпретации вечности у Платона, но обе они представляются неудовлетворительными.
Так, в пользу темпорализма говорят явные темпоральные коннотации ключевых слов для обозначения вечности и вечного у Платона (ἀεί, ἀίδιος, αἰών). Однако отличие вечного от временного у Платона имеет не количественный, но качественный характер, о чем красноречиво свидетельствует исключение модуса настоящего из списка видов времени (Tim. 37e4). Тем не менее, и этерналистская интерпретация вечности у Платона вызывает вопросы. Во-первых, если вечность трансцендентна времени, то необходимо объяснить платоновское описание времени и временного в терминах вечного (например, αἰώνιος в 37d7 для описания копии; ἀίδιος в 37c6 и 40b5 для описания небесных тел). Во-вторых, если вечность трансцендентна времени, то идеи никаким образом не могут участвовать в устроении космоса.
Выход из интерпретационного тупика подсказывает диалог «Парменид». Здесь вводится понятие настоящего времени (ὁ νῦν χρόνος или просто τὸ νῦν – Parm. 151e–152e), занимающего особое положении в течении времени. Так, согласно Платону, в текущем времени настоящее играет роль связки, выступает в качестве принципа единства и существования: «Если же все становящееся необходимо должно пройти через настоящее (εἰ δέ γε ἀνάγκη μὴ παρελθεῖν τὸ νῦν πᾶν τὸ γιγνόμενον), то, достигнув его, оно прекращает становление (ἐπίσχει ἀεὶ τοῦ γίγνεσθαι) и в это мгновение есть (ἔστι) то, чего оно достигло в становлении» (152с–d). Итак, достигая в своем становлении настоящего, объект перестает становиться и есть то, чем он становился. Настоящее, таким образом, – это «место» бытия, исключающее всякое становление. Кроме того, в чувственном мире объекты находятся в постоянном изменении, поэтому прохождение через настоящее есть не только причащения объекта бытию, но и условие его самотождественности. Становясь иным по отношению к своему прошлому состоянию, объект все-таки, сохраняет собственную идентичность.
Тем не менее, настоящее как место бытия рассматривается в «Пармениде» не самостоятельно, а как элемент времени как такового. Здесь обнаруживается вся парадоксальность времени: все существующее во времени находится в постоянном изменении и становлении; все существующее во времени проходит через настоящее, исключающее всякое изменение и становление. Этот парадокс указывает на то, что в самом сердце всякого становления – есть бытие. Но настоящее во времени, будучи принципом существования и единства, является лишь следом истинного бытия: «[П]оскольку единое непрерывно идет вперед, оно никогда не может быть удержано настоящим (ληφθείη ὑπὸ τοῦ νῦν): ведь уходящее вперед имеет свойство соприкасаться с обоими моментами настоящим и будущим, оставляя настоящее и захватывая будущее и оказываясь таким образом между ними» (152с). Настоящее как часть времени, таким образом, всегда соскальзывает из будущего в прошлое, оно не способно удержать собственное бытие. С одной стороны, присутствие настоящего обеспечивает существование темпоральных объектов. С другой стороны, это только относительное бытие, т.е. становление.
Таким образом, настоящее во времени выполняет сразу несколько функций. Во-первых, настоящее гарантирует самотождественность и существование любого объекта во времени. Можно сказать, что существующее во времени не существует: однажды рожденное неизменно погибает, а при переходе от небытия-до к небытию-после находится в постоянной изменчивости. Тем не менее, причастность к настоящему гарантирует его, по крайней мере, относительное существование, потому что проходя через настоящее объект приобщается к бытию. Во-вторых, настоящее гарантирует самотождественность и существование самого времени. Всякое настоящее было будущим и станет прошлым. Тем не менее, нет такого прошлого, которое не было бы настоящим, и нет будущего – которое не станет настоящим. Без настоящего, несущего в себе бытие, время было бы невозможно, оно просто не могло бы быть. Иными словами, настоящее – это основание времени.
Связанность обсуждения темпоральной проблематики в диалогах «Тимей» и «Парменид» неоднократно отмечалась исследователями. На мой взгляд, «Парменид» предлагает уточнение понятия вечности в «Тимее». Если в «Пармениде» настоящее рассматривается как особый конститутивный, но все же элемент текущего времени, то в «Тимее» Платон рассматривает это настоящее как метафизический принцип, говоря о его независимом от времени существовании. Это настоящее, не как элемент временного ряда, но как основание времени, и есть искомая вечность «Тимея». Вечность не вневременна, потому что представляет собой длительностное основание времени. Она невременна, потому что настоящее неразложимо в последовательность. Вечность – это атемпоральная длительность, особый способ существования идеального в полноте и исключительности настоящего.
Плешков Алексей Александрович
